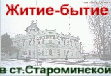«Ой, Толя, дывысь, фашисты по нашей улыци йдуть. Ой, та кажись до нас…» Миля испуганно отпрянула от окошка, а калитку уже по - хозяйски толкала нога в пыльном сапоге. И тут же содрогнулась входная дверь от настойчивого стука. Миля метнулась к двери и испуганно откинула крючок. На пороге стояли немцы, живые, не побеждённые в самом начале войны нашей несокрушимой армией, как мечталось Миле. Конечно, она знала, что враги недалеко, но разве могла она представить себе, что будет видеть их рядом с собой так близко? Отодвинув женщину, озираясь по сторонам, не спуская пальцев рук со спусковых крючков, висящих на шеях автоматов, они вошли в дом. «Партизанен?» - немец ткнул ей в грудь дулом. Миля, отчаянно замотав головой, рванулась к детям, схватила на руки белокурую трёхлетнюю девочку, прижала к подолу восьмилетнего мальчишку. Бегло осмотрев две комнатушки, немцы гортанно что-то крикнули во двор и пошли смотреть сараи, небольшой сад и огород. Тыкали сено, заготовленное для коровы, грызли краснобокие яблоки, собранные к Спасу. В дом вошёл немецкий офицер и медленно прошёл мимо Мили и детей в самую просторную комнату, которую все домочадцы называли «залом», хотя в ней помещались лишь железная кровать, небольшой круглый стол и шкаф, сработанные местным умельцем, да ещё старое, с радужными потёками зеркало. Бегло глянув по сторонам, офицер устало опустился на кровать, скрипнула тягуче кроватная сетка. Он потрогал металлические шишечки на спинке кровати, белоснежный подзор, зачем-то приподнял все три подушки под прозрачной кисеёй и устало вздохнул. Миля с замиранием сердца незаметно следила за пришельцем, молчали дети. Она втайне надеялась, что ему не понравится жилище и немец уйдёт, но тот остался.
«Ой, як же жить, Господь, як же жить, що мини робыты, подскажи, научи, сразуми, Живый в помощи Вышняго…» - шептала Миля ночью, перебравшись с детьми в служащий продолжением дома тёплый закут, где обитал народившийся телёночек её любимой коровы Розы. Она поставила в угол старую, тёмную икону, доставшуюся ей в наследство, которой благославляла её на брак мать в Ростовской области. Не сложился брак, смертным боем бил её, нелюбимую, невзрачную жену жестокий муж. Родила ему ребёночка, сыночка ненаглядного. Но однажды летом, когда Миля, как всегда нанявшись на полевые работы, вернулась вечером домой, увидела сыночка своего плачущим, задыхающимся, посиневшим. Схватила, побежала к врачу, да так и не добежала, умер сынок у неё на руках. В больнице сказали, от заворота кишок умер. Свекровь неразумная накормила малыша трёхлетнего молоком да раками. Не держало больше ничего Милю в той семье, уехала она в Староминскую. Жила в прислугах у зажиточных казаков, выполняла домашние работы, нянчила детей. Тем и кормилась. Служила она у одной казачки, нянчила её хорошенькую, черноглазую дочку. В воскресенье хозяйка, забрав девочку, уехала на ярмарку. А тут к Миле отец внезапно приехал проведать, кинулась она ему еду приготовить. Еду же женщины готовили в печке, стоявшей во дворе, топили её кирпичиками из сухого навоза, кизяками. Между ними был такой уговор, если Миля для себя готовит, то топит печь своим кизяком, а хозяйка - своим. Смотрит Миля, а у неё кирпичики закончились, отец голодными глазами смотрит. Взяла она в займы у хозяйки три кирпичика, подумала, вернётся казачка, всё объяснит, отработает. Отца накормила, пошла провожать. А тут вернулась хозяйка, глядь, кирпичиков не хватает и «Мылькы нэма». Побежала быстро к атаману, донесла на прислугу за взятые кизяки. Ой, как били Милю в подвале дома атаманского казаки! Её объяснений и слушать не стали, решили, что воровка. Секли нещадно, бусы красные, отцом ещё в девичестве подаренные, в кожу на шее влипли, по спине кровь текла, под себя сходила от боли, но вытерпела. Казаки сказали в конце с усмешкой, вытирая от крови свои плётки: «Тэпэр будэшь знаты, як чужэ браты». Шла Миля после этого позора и боли, давясь слезами и нестерпимой, жгучей обидой, и думала: «За що вона так зо мной? Я так годыла, дитя любыла, як свое, кроха мэнэ мамкой кликала». Вспомнила она и злые хозяйкины взгляды, которые она бросала на неё, когда малышка обнимала ручонками Милину шею. Неужели глупая материнская ревность? Через много лет пришла та казачка у Мили прощения просить, её юной красавице – дочке в поле трактором отрезало ноги. А Миля уж давно её простила, заросла на сердце та рана. Сильно горевала она о несчастье своей любимицы, которую она когда-то пестовала, подолгу молясь и прося у Господа за всех прощения.
Так и жила она, скитаясь со своими горестями, а потом в 30-х прибилась Миля к семье своей сестры Ксении, которая была младше её на пятнадцать лет, навсегда оставив мысли о своём женском счастье.
Родные сёстры на удивление были разными. Миля, сухопарая, внешне неприметная, с маленькими, глубоко запавшими глазками, крупным носом, укладывавшая свои редкие русые, с ранней проседью волосы в маленькую гульку на затылке, с обязательно покрытой платком головою, была совсем не похожа на свою младшую сестру. Ксения, пышущая здоровьем и оптимизмом, с округлыми формами, была похожа на статую тех времён «Девушка с веслом». Коротко остриженные, светлые вьющиеся волосы, слегка вздёрнутый носик, искрящиеся голубые глаза, она была девушкой для светлого коммунистического будущего, в которое, кстати, неподдельно верила, как и многие её сверстницы. Она была пионеркой и комсомолкой, окончила бухгалтерские курсы. А Миля так и оставалась простой, полуграмотной, но работящей, сметливой и сильной, верующей глубокой православной верой, которую в ней не смогли убить новые властители. Она усвоила только одну непреложную истину, надо работать и надо служить. И она стала служить своей сестре. Она нянчила её первенца Толю, родившегося хилым и слабым потому, что в 1933 году был страшный голод, но именно тогда вдохновенная Ксения полюбила своего мужа Ваню, ставшего потом героем войны. Она нянчила белоголовую, нежную Светочку, родившуюся в 1940 году, накануне войны. Конечно, Миля верила сестре, она думала, что наступит когда-то такое время, когда в стране все будут счастливы, и даже она. Но на всякий случай, когда не видела сестра, всё же доставала образа, тихо молясь и целуя любимые лики. Неожиданно пришла война, это чудище приближалось всё ближе. Миля ходила рыть окопы. И вот в начале лета 42-го пламенная Ксения сказала ей: «Миля, я должна бороться с фашистами, они близко, я ухожу в партизаны. Позаботься о детях». И уехала. Миля исправно заботилась, доила корову, носила на рынок молоко и сметану, птицу кормила, яйца вместе со Светочкой собирала, с Толиком на огороде управлялась, носы вытирала, купала, кормила, стирала … И вдруг в их хате немцы.
Может быть, он был и неплохой человек, этот немецкий офицер, поселившийся у них в доме, но он был враг, и Миля, наливая ему в крынку молока, тихо шептала: «Що б вы уси пэрэдохлы, фрицы проклятые».
Громкий собачий лай донёсся с улицы, хохот, немецкий, лающий говор, а потом детский, до боли знакомый крик. Миля, возившаяся на кухне, опрометью выскочила на улицу. Ну, конечно, кричал её маленький племянник. Разве удержишь восьмилетнего мальчишку в доме, когда на дворе лето и привычно играть на родной улице с соседней детворой? Но Миля увидела другую картину. Гоготали немцы, подходя к мальчишке всё ближе и ближе, говоря: «Юде, юде» - и натравливая на него двух своих рыжих, с чёрными подпалинами овчарок, роняющих слюнявую пену из оскаленных пастей, захлёбывающихся хриплым лаем. Мальчик с тёмными вьющимися волосами, бледный, с голубыми отёками под глазами, очень похожий на еврея благодаря своим глубоким армянским корням, да к тому же с ненавистью глядевший на чужих людей, привлёк внимание проходившего мимо немецкого патруля. Не помня себя, Миля подскочила, заслонив мальчишку, и неистово заорала: «Якый цэ вам юде, цэ сынку мий, нэ дам, нэ дам убываты». Накрыв мальчишку фартуком, размахивая сковородкой, затащила плачущего Толю во двор. Но немцы двинулись следом. На крыльцо вышел офицер. Что-то крикнув патрулю, махнул рукой, и немцы, выйдя со двора, двинулись дальше по улице. Миля бессильно опустилась перед мальчиком на колени, обнимая, плача и приговаривая: «Божэ мылостывый, спасы нас…»
Так и жили они, суровая Миля с детьми, ютясь в закуте, и немецкий офицер со своим денщиком в их небольшом доме.
В один из вечеров, чуткая Миля сквозь шорох мелкого дождичка услышала, как скрипнула во дворе калитка, по какому-то наитию бесстрашно выбежала во двор. «Ксеня, ты? Заходь скоришэ, у нас нэмиць живэ, щас его нэма, та, мабуть, скоро прыйдэ, як ты?» Перемежая вопросы с рассказами, Миля завела сестру в закут. Дети с криками кинулись к матери. «Тыхо, тыхо, нэ голосуйтэ, бо хтось почуе…» - успокаивала всех Миля, радуясь неожиданному возвращению сестры. Ксеня тихо рассказывала, как приехали они с соседкой Лидой и другими станичниками в Адыгею, как долго искали партизан, но сведущие люди сказали им, что комсомольцев и активистов сами жители же режут и что лучше им отсюда побыстрее уехать. Рассказывала и о том, как с большим трудом и риском им удалось добраться до станицы. «Миля, что делать, что сказать этому немцу, а вдруг он узнает, что я жена красного командира, что сама хотела стать партизанкой?» - взволнованным шёпотом говорила Ксеня. «Нычого, Ксеня, як шо попытае, скажем, що ты до матэри хворой йиздыла, та возвэрнулась, шо цэ й диты твои. Даст Бог, пронэсэ». А немец на утро ничего и не спросил, увидев Ксеню с детьми и, очевидно, сразу поняв, чьи это дети.
А в станице шла перепись. Гестапо составляло списки, просеивая как сквозь сито жителей, особо выделяя среди них евреев, коммунистов и их семьи, местную интеллигенцию. «Сарафанное радио» доносило до сестёр страшные вести о начавшихся расстрелах. В комендатуре станичникам выдавались новые паспорта, «аусвайсы». «Милечка, родненькая, сходи в комендатуру, получи этот проклятый паспорт, тебе нечего бояться, если меня заберут, ты заменишь меня детям», говорила Ксеня сестре. Миля, натянув линялый жакет, отправилась на Вокзальную улицу, где была комендатура. Документ ей оформили и определили женщину на работу на элеватор.
Ксения осторожно вошла в комнату, неся чистые полотенца, маленькая Света неотступно шла за матерью, держась слабенькой ручкой за подол её креп-жоржетового платья. Немец сидел за столом. «Ком, ком цу мир…», офицер неожиданно подозвал к себе малышку, улыбаясь и протягивая ей шоколадку. Ксеня подтолкнула дочку, здраво рассудив, что с ним лучше не ссориться. А он посадил Свету на колени и, задумчиво перебирая светлые кудряшки на её головке, глядел на фото с улыбающейся молодой, нарядно одетой женщиной и маленькой белокурой девочкой, чем-то отдалённо похожей на Свету. Потом заговорил, обращаясь к Ксене и показывая на фото: «Дас ист майне либер фрау унд либер тохтер. Ферштейн?» Ксения понимающе кивнула в ответ. Офицер улыбнулся и пристально посмотрел на женщину. Ксения, смутившись, торопливо забрала девочку и попятилась к двери.
Вечером Миля придирчиво осмотрела сестру. «Дюжэ ты, Ксеня, гарна. Сховай-ка свои платья, ось тоби одёжа». Она ткнула пальцем на невзрачные юбку и кофту, годящиеся только для работ по дому и копания в огороде. «Та ось тоби платок, сховай кудри». Модница Ксеня покорно переоделась. А Миля бурчала, продолжая поучать свою младшую сестру: «Да нэ зыркай по сторонам, ходь як стара, або хвора. З хаты зря нэ выходь. Я сама всэ зроблю и сходю, куды трэба».
Ночью Ксеня долго ворочалась и не могла заснуть. Ей вдруг стало жалко и себя, и деток, и этого немца со своими фрау и тохтер, и мужа Ванечку, воюющего где-то, и товарища Сталина, и сестру Милю, а заодно всех людей, живущих на земле. Ей думалось, ведь всё так просто, коммунизм – это счастье для всех. Каждому по потребностям, от каждого по способностям, нет рабства и нищеты, светлое будущее для всех. Разве этим немцам не понятно, зачем же эта война? А Миля рядом тоже не спала и тихонечко шептала, повторяя одно и тоже: «Господы, Иисусе Хрыстэ, сынэ Божый, помылуй нас гришных».
Всю осень и зиму Ксеня просидела дома, возясь с детишками и потихонечку шепчась с Милею обо всех делах и новостях, которые приносила старшая сестра. Каждый день, все эти полгода оккупации сёстры жили в страхе, что за Ксенией придут из гестапо. Но то ли по горячим Милиным молитвам, то ли потому, что не успели составить немцы полные списки и никто из предателей не донёс на Ксеню, но её не тронули.
Офицер иногда заглядывал в закут, ища общения с Ксенией и детьми, но неизменно натыкаясь на суровый Милин взгляд, улыбался и, напевая какую-то песенку, шёл в свою комнату. В новогоднюю ночь 1943 года немец пришёл выпившим, угощал шоколадом, но с этого дня его настроение изменилось, он уже не улыбался, глядя на Ксеню со Светой, больше молчал и словно чего-то ожидал.
Однажды февральской стылой ночью сёстры проснулись, услышав в глубине дома какую-то возню и глухой шум. Миля тревожно глянула в испуганные Ксенины глаза: «Шось там робыця». И вдруг услышали мужской голос и русскую речь: «Хозяева, есть кто дома?» «Наши, Миля, наши», - шептала Ксеня, и слёзы счастья текли по её круглым щекам. «Слава Тоби, Божэ наш, слава Тоби», - мысленно говорила Миля, спеша к двери. Их постояльцев в доме уже не было, в эту ночь красноармейцы тихо и без лишнего шума обезоружили оккупантов.
Ещё два с лишним года шла война. Но потом была долгожданная Победа. Вернулся с войны Ваня, вернее уже Иван Яковлевич, офицер с множеством боевых наград. В 50-х его стараниями был снесён старый дом, в котором останавливались оккупанты, и на этом месте построен новый. Миле тоже на соседней улице поставили небольшой дом. Она сама месила вязкую глину с колкой соломой для саманных кирпичей, белила стены комнат, веря и не веря своему счастью. У неё свой дом, свой огород! С какой радостью обустраивала она своё гнёздышко, а в «красном углу» теплилась лампадка, и ей казалось, что и Христос, и Богородица радуются вместе с ней. А уж в каком порядке содержала она своё хозяйство, нигде «ни пылинки, ни соринки».
Время двигало вперёд свои минуты и часы, годы и десятилетия. Но не было дня, чтобы сёстры не виделись, их огороды сходились своими краями, и по меже мимо душистых акаций с корявыми стволами в любое время года была протоптана тропинка, тропинка родства и любви. Миля помогала занятой на работе Ксене растить детей, потом любила её внуков. О своей личной жизни она даже и не думала. Все свои нерастраченные чувства Миля отдавала Богу и небожителям, слушавшим её молитвы сквозь строгие образа, младшей сестре и Ксениной семье, да ещё нескольким подругам прихожанкам, с которыми они в её чистом, ухоженном доме иногда собирались по большим церковным праздникам и после рюмочки вина пели протяжные украинские песни.
Ксения очень любила кино, она не пропускала ни одного нового фильма. Это был почти ритуал. Принарядившись и подкрасив губы, подушившись «Красной Москвой» и положив в сумочку горстку леденцов, она ждала Милю, неизменную спутницу своих походов в кинотеатр «Победа». Для таких постоянных посетителей «киноманов» кассир держала два лучших центральных места в шестом ряду. «Ксеня, цэ хто, а що воны роблють?» - то и дело спрашивала Миля, не всегда разбираясь в хитросплетениях сюжета. «Тише, Миля, тише, я потом тебе всё объясню», - шептала сестра. И весь обратный путь домой она терпеливо пересказывала Миле просмотренный фильм.
Они ушли из жизни вместе в конце 80-х с разницей в один день. Девяносто двухлетняя православная Меланья и её младшая сестра атеистка Ксения, которая перед тем, как последний раз взглянуть на покидаемый ею мир своими прозрачными глазами, вдруг выдохнула сидящей рядом дочери: «Бог есть». Сёстры умирали вместе, как будто не хотели расставаться и на том свете. Вместе с ними умирала и огромная, великая страна СССР, сильная своей светлой мечтой о счастье для каждого человека и слабая своим безбожием.